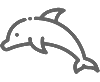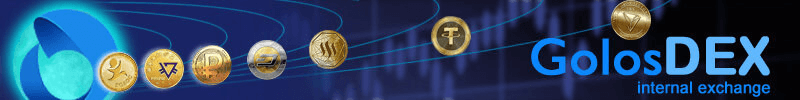Соседей – самых разных – много было, всех уже и не вспомнишь, хотя вроде и не старик. Да дело тут вообще не в возрасте. Мы бессильны перед памятью с большой буквы – это я о той, что оставляет рубцы в мозгах, и, хочешь – не хочешь – ты будешь это вспоминать, тут от тебя уже ничего не зависит.
А память с маленькой буквы – это типа итог зубрёжки. Запомнил, дело сделано, и запомнившееся постепенно исчезает. Это кратковременная память, наподобие одноразовых средств защиты – ерунда со временем забывается. Так, и в первом случае - тоже ерунда, но въевшаяся в мозг – попробуй выковорить – ничего не получится. Повторяю – перед памятью с большой буквы мы бессильны.
Не буду уточнять, в каких годах, городах, улицах, домах и квартирах это имело место быть.
Саксофонист
Одно время соседом был саксофонист, через стенку жил. Он играл дома по ночам - и никто по батареям не стучал. Сильно проникновенно играл. Для меня саксофон – это очень сложный и непонятный инструмент, и, как я понимаю, на нём можно играть громче, если прибегнуть к помощи микрофона и усилителей, а вот играть потише – наверное, никак нельзя.
Частенько я встречал его в Верхней зоне – у него было любимое место под навесом "Поганки" (это ресторан, так мы его называли), - он всегда стоял таким образом, чтобы лица не было видно, ну, а звуки его сакса – они отражались от стен этой клоаки и усиливались. Подкорка не справлялась, ноги переставали слушаться. Даже пройдя мимо, я останавливался. Чего останавливался? А вот так. Закуривал, и, как будто чего забыл, или вроде как планы поменялись, понимаешь, поворачивал назад. Не спеша, не спеша…
Да я не один такой. Когда он играл – у проходящих рядом людей – наверное, как и у меня, что-то внутри заворачивалось. Не знаю, в какую сторону. Как чувствовал – вроде снизу и вверх. А по направлению – не от меня, а ко мне, вот так будет точнее.
Отворачивался он, "чтобы лица не было видно" – это я процитировал себя самого. Да нет, тут совсем другое. Шрамы украшают мужчину – эта фраза слишком расхожая. Шрамы… Д'Артоньянщина какая-то, бред. У многих ребят, прошедших Чернобыль, шрамов не было. Но и лиц тоже не было. Они были расплавлены, бесформенны, страшные…
Да, это очень страшно. Жена ушла, сын ушёл. Жена – видимо навсегда, насовсем, по-взрослому, а сын – да что сын. Присосался к одной, а сам никакой. Сосед всё заработанное бросал сыну в почтовый ящик. Чтобы не беспокоить его, и чтобы не давить на жалость к самому себе.
Соседа, как он лицо потерял – попросили из филармонии "по собственному желанию". Он прекрасно понимал всю несправедливость, но также прекрасно понимал и то, что даже если ему дадут зелёный свет – он не сможет выйти на сцену. Не сможет он выйти, и пугать людей. На сцене не скроешься – она плоская, хорошо освещается, и просматривается со всех сторон. Этот плацдарм – не для боя, он для сдачи в плен, искусство всегда ищет покровителей. А если оно начинает сражаться – оно перестаёт быть собой, превращаясь в иную ипостась. Мы продолжаем слышать звуки, но это уже не искусство – хотя всё и правильно.
Дистрофия – страшное слово, особенно в наши годы. В общем, если раньше он играл, и не стучали по батареям, то теперь, когда он играть перестал, начали стучать. Интеллигентно: не сильно и не долго по времени.
Только поздно было. На следующий день с утра была обнаружена не закрытая на ключ входная дверь. Как предчувствовал. Потом приехали медработники и милиционеры.
Долгое время, начиная с 20.00, каждый день я слышал те мелодии, которые он играл…